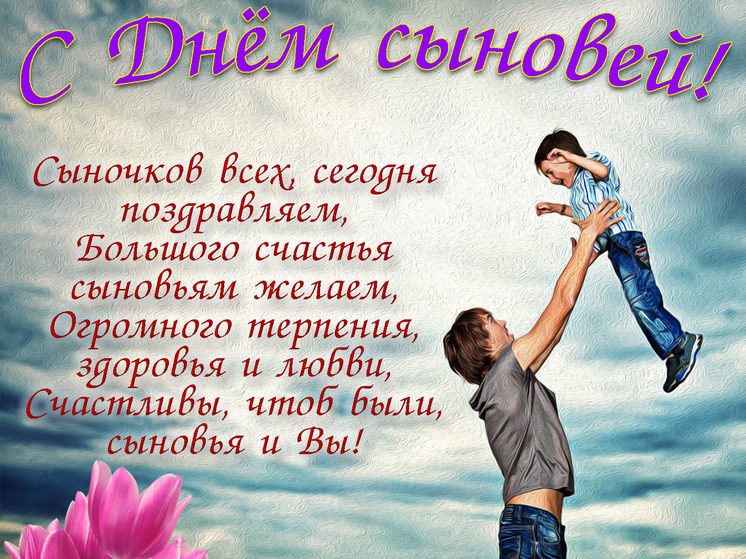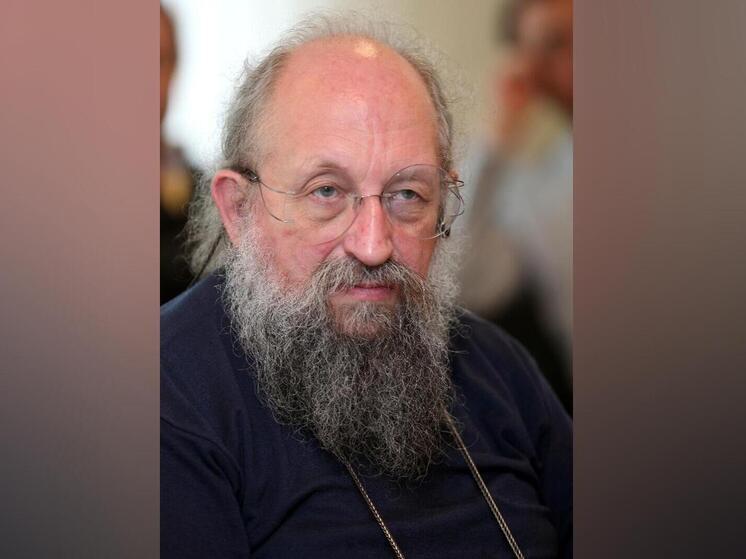И вернулся он другим
Семейство крестьянина Антона Максимовича Макарова переехало в село Колыванское в 1875 году. Как тогда писали «деревню близ левого берега реки Барнаулки у небольшого озера без всякого названия», из Тамбовской губернии, Лысогорского уезда. На момент переезда семья состояла их хозяина, его жены, сыновей Алексея и Семена.
Много тамбовских крестьян переселялись на Алтай. Жажда, стремление получивших свободу в 1861 году тамбовцев быстрее улучшить жизнь любым путем, привела к истощению богатых некогда черноземов. Крестьяне не оставляли часть земли отдыхать под паром, не привыкли использовать навоз как удобрение. Урожаи падали, население губернии быстро росло, новых земель не было. А вот Алтай…
Первых переселенцев 70-х годов XIX века местные старожилы встречали охотно, иногда даже дарили лошадей, нарезали пашни, сенокосные угодья, без проблем причисляли к сельскому обществу. В начале XX века все изменится, допустим за приемный приговор требовали до 200 рублей денег, ведро, а то и не одно, водки местным крестьянам.
Будущий полный Георгиевский кавалер Григорий Макаров родился 24 января 1876 года, был крещен во Введенской церкви горнозаводского села Павловска, так как своей церкви в деревне Колыванской еще не было. Зима 1876 года по архивным данным была лютой: «река Обь у деревни Елуниной покрылась льдом, выловленная рыба, даже не трепыхалась как обычно, вмиг замерзала». Уже к 1884-му в доме появилась дочь Марфа, и семья, владевшая 20 десятинами пашни, сенокосом и стадом, считалась в селе не бедной — рачительной, трудолюбивой, благочестивой. Утром и вечером — молитва, по праздникам — исповедь, по воскресеньям — церковь.
Как и положено крестьянскому парню, Григорий женился в 18 лет. Свадьбу справляли в Барнаульском, венчал священник Петр Дезидереев. Жизнь была трудной, но ясной: пашня, хлеб, лен, овцы, дрова, ткачество, дети… В 1897 году, когда в Павловском волостном правлении из деревянного ящика он вынул жребий — «служить в армии», — ни он, ни отец не удивились. Проводы устроили по-настоящему: три дня пировали, пели, благословляли.
В 1901 году ефрейтор Макаров вернулся в родное село в гимнастерке с бронзовым знаком «За отличную стрельбу из винтовки». Он говорил иначе — четко, без витиеватостей. Умел читать не только молитвы, но и газеты. Вел дом отдельно, но с отцом делил сою, сено и борону. Родились сыновья — Тимофей и Пахом. Построили церковь Казанской иконы Божией Матери — и деревня стала селом. Григорий покупал четвертую лошадь на базаре в Павловске только на посевную, продавал после уборки — чтоб не кормить зимой впустую. Появились конные грабли, сенокоска… Казалось — вот она, тишина, благодать. Но война не спрашивает, готов ли ты.
Летом 1904 года, едва закончив посев, он снова надел форму. Русско-японская война унесла его в Маньчжурию. Там он, не знавший офицерских училищ, окончил полковую школу унтер-офицеров, научился принимать решения под огнем, командовать людьми, жить рядом со смертью — и выживать. Осенью 1905-го, с бронзовой медалью «В память русско-японской войны», он вернулся в Колыванское — уже не просто крестьянин, а авторитет: грамотный, воевавший, «царю послуживший».
К 1911 году село разрослось: 424 двора, две лавки, маслодельные заводы, церковно-приходская школа. Григорий купил молотилку — и тут же, 28 июля 1914-го, прозвучал призыв. Мобилизация. Война. Ему — 38. В третий раз — гимнастерка, портянки, винтовка Мосина.
Золотые кресты на солдатской груди
В 23-м Сибирском стрелковом полку его зачислили зауряд-прапорщиком. Газеты тогда писали о сибиряках: «крепки, как таежные кедры, тяжелы на подъем, но безудержны в атаке». Макаров оправдал каждое слово.
Весной и летом 1915 года ход военных действий сложился для русских войск неудачно. Сказались большие потери в ходе предшествующих кровопролитных боев, острый недостаток в вооружении и боеприпасах. В апреле 1915 года германское командование подготовило прорыв в русского фронта в Галиции. Создав на 35-ти километровом участке фронта в районе Горлица — Громник двойное превосходство в живой силе и еще больший перевес в пулеметах с тяжелой артиллерией, немцы пошли в наступление. Русское командование бросало по частям направления в район прорыва резервы. Почти одновременно с этим началось немецкое наступление в районе реки Неман, на Рижском направлении. Русская армия медленно с боями отступала. Но в компанию 1915 года наша армия все же выдержала основную тяжесть натиска со стороны австро-германского блока, нанеся его войскам урон в два миллиона человек, обескровила противника.
Именно в это непростое время Макаров заслужил первый Георгиевский крест. Смелость его была не отчаянием, а привычкой: он бросался в атаку первым, полз в разведку в тыл врага, восстанавливал связь под огнем, десятки раз чудом избегал смерти.
7 июля — Георгиевский крест III степени: «…под сильным огнем, первым с винтовкой бросился в атаку, увлекая за собой остальных». Уже через три недели — II степень, золотой, сияющий ярче прочих:
Туманное утро у деревни Витан. Колючая проволока, пулеметы в окопах. Макаров, еще со школьных лет метавший камни точнее всех в округе, теперь бросает гранаты — не в воздух, а в узлы проволоки, в амбразуры. 20 взрывов — и он рвется вперед с криком: «Ура, братцы! Бей гадов!» Австрийцы сломлены. 12 солдат, два офицера, два пулемета — в плену. А 31 июля 1915 года — I степень. Полный Георгиевский кавалер.
Четыре креста — на одном груди. Редкость даже среди офицеров. А он — крестьянин из Колыванского.
Повышение в чинах шло одно за другим: прапорщик, поручик, штабс-капитан. Награды — как листья осенью. Св. Георгий IV степени — за личный захват пулемета и офицера в кареличских боях. Св. Анна IV степени «За храбрость» — за прорыв укрепленного пункта. Св. Станислав III степени с мечами — за ночной захват пяти пулеметов «Бергман». Св. Анна III степени — уже в разгар Брусиловского прорыва…
От выборов к забвению
16 июня 1916 года — «сквозное шрапнельное ранение левой грудной клетки, контузия головы». Газета «Русское слово» сообщала: «Макаров Григорий Антонович, 1876 г.р., поручик…» — и больше ничего. Ни имени жены, ни номера дома в Колыванском. Просто — раненый офицер. Один из сотен тысяч.
Вернувшись из госпиталя осенью, он впервые столкнулся с понятием «позиционная война». Наверное, герою с множеством наград на гимнастерке заслуженных в постоянных боях было непривычно видеть инженерные заграждения сплошь в колючей проволоке, «ничейную землю», которую никто не контролирует. Он привык постоянно быть в напряжении, поражать врага. А тут рутинная работа: солдаты глубже врываются в землю, подкатывают бревна под блиндажи, пулеметчики неторопливо набивают патронами ленты, ротные телефонисты, как муравьи, тянут провода вдоль окопов. Всюду утомленно-сердитые лица. Боев не было, иногда вылазки. Тишина. Двухлетняя война не могла не расшатать нравственные устои армии. Нравы грубели. Чувство законности в значительной мере было утеряно. Происходила большевизация армии, шла она от солдатских комитетов снизу, в звене рота — батальон — полк. Командиров стали избирать солдатские комитеты. Не избежал этой участи и Макаров Григорий. 3 января 1918 года — запись в полковом приказе: «Командиром 23-го Сибирского стрелкового полка выбрали Г.А. Макарова, бывшего капитана».
Летом 1918 года Григорий Макаров числился командиром роты 3-го Барнаульского Сибирского стрелкового полка. Свергал ли он советскую власть вместе с подполковником Попеляевым и белочехами Радолы Гайды до Читы — краеведами не выяснено. В марте 1919 года его кадровый полк вошел в состав вновь сформированной 13-й Сибирской стрелковой дивизии, получил новый номер — 51-й Сибирский стрелковый полк. Полк формировался в Барнауле, 16 июня 1919 года принимал участие в параде по случаю первой годовщины освобождения Барнаула от власти большевиков. Сохранилась французская кинохроника барнаульского парада, в 2010-х она широко разошлась в интернете, краеведы в одном из командиров признают Григория Макарова во главе воинского строя — коробки.
В июле 1919 года полк прибыл на Восточный фронт под Челябинск. Адмирак Колчак стягивал туда резервы с планом разгромить красные войска 5-й армии Михаила Тухачевского, в прошлом поручика царской армии, кавалера пяти орденов. Но в боях за Челябинск белогвардейцы понесли тяжелейшие потери, были разгромлены.
Сказывалась большевистская агитация, да и солдатам надоело воевать. Адмирал Колчак своими действиями довел народ до всеобщего отторжения. Принудительная мобилизация, плохое снабжение армии, частичная конфискация лошадей и продовольствия у крестьян… В ходе боев, на сторону большевиков перешла большая часть солдат. Власть Колчака рушилась. Капитан Григорий Макаров, занимавший должность помощника командира полка, не перешел к красным, не был убит. Его следы затерялись. У историка С.В. Волкова есть данные в архивах: полковник Макаров, без инициалов в 1922—1923 годах находился в составе одной из офицерских рот Земской рати Дальнего Востока под командой генерал-лейтенанта К.М. Дитерихса. Рота находилась в Корее. Но тот ли Макаров, выяснить не удалось.
Александр Коленько нашел в архивах «Список лиц, не имеющих право избираться и быть избранным в Колыванском сельском совете от 19 марта 1922 года». Под номером четыре значится «Макаров, 40 лет, бедняк, офицер». Инициалов нет. Да на этот год выборов Григорию Антоновичу было 46 лет. В том же списке отстранен от выборов его сын — Тимофей Григорьевич. Известно, по Всесоюзной переписи населения 1926 года он проживал еще в селе Колыванском. В 1924 году у него родился сын Илья. Потом семья в 1930-е годы переехала в Барнаул, Тимофей работал слесарем в совхозе НКВД № 1.
Внук, Илья Тимофееви, не посрамил деда, Георгиевского кавалера. Мужественно воевал в годы Великой Отечественной войны под Ленинградом, в Прибалтике. Был четырежды ранен. Награжден боевыми медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Судьба родителей Григория Макарова, его сына Пахома и дочери не известна.