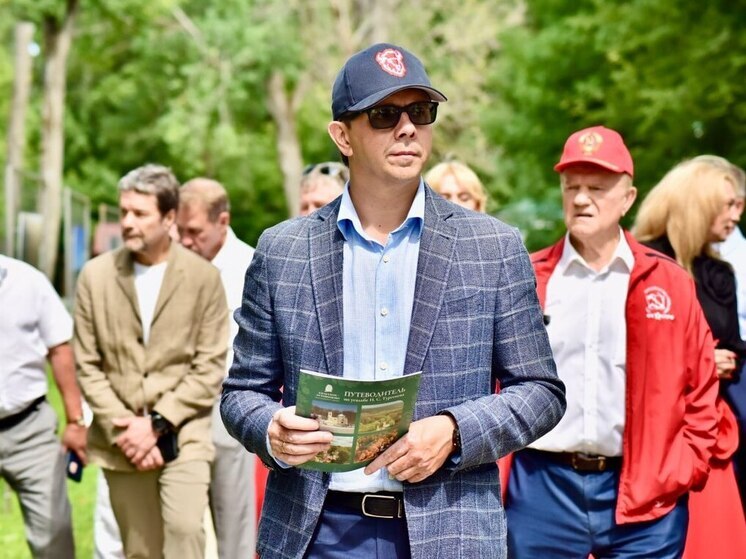Элитные войска
К середине XIX века в Европейской части России, в связи с быстрым ростом населения, среди крестьян все острее ощущался дефицит земли под пашни и сенокосы. Власти Российской империи обратили свои взоры на Сибирь — обширные, малонаселенные просторы, сулившие новую жизнь. В 1876 году император Александр II издал указ «О водворении в Алтайский округ государственных крестьян». Десятки тысяч семей отправились на Алтай, увлекаемые мечтой о земле и свободе. Ходили невероятные слухи: «Пшеница там родится по два человеческих роста, но люди дикие живут. Девок в лес утаскивают…»
Терентия Антоновича Дрокова, хозяина семьи из Тамбовской губернии, эти слухи не испугали. В 1887 году, продав дом, хозяйство и утварь за 350 рублей, он после долгих и тяжелых странствий обосновался в селе Рогозиха Барнаульского уезда.
В семью входили: сам Терентий (1855 г. р.), его жена Пелагея (1856 г. р.), сыновья — Куприян (1876) и Дементий (1877), дочь Федора (1883), позже вышедшая замуж за Лямкина. Младший сын, Михаил, родился в 1888 году. Его крестили во Введенской церкви села Павловского — в Рогозихе храма еще не было. Мать Михаила, Пелагея, помимо забот о большом семействе, слыла искусной повитухой. В те времена роды происходили дома, и ее помощь была особенно ценна.
Семья Дроковых получила все льготы, предусмотренные указом императора: новоселы не платили за поселение, пользование пашней и сенокосами. Сторожилы не имели права требовать с них деньги. Это был благоприятный период для переселенцев. Вскоре к Терентию присоединился его родной брат Иван со своей семьей — вместе легче было поднимать хозяйство в новом крае.
Переселенцы, прежде всего, строили жилье и накапливали скот. На строительство изб, бань, амбаров и скотных дворов власти выдавали лес — сосновый бор стоял рядом. Выдавались и ссуды. Трудолюбивые крестьяне за два года обустраивались: возводили небольшие избы из бревен, приобретали лошадей, коров и овец.
Село Рогозиха быстро росло: если в 1851 году здесь проживало 121 человек, то к 1897-му — уже 2734, а к 1917 году — 3968 «душ обоего пола».
Семья Дроковых была дружной, трудолюбивой. Михаил рос крепким, наблюдательным, с детства полюбил лошадей, ходил с отцом на охоту — дичи в сибирской тайге было в изобилии. Он окончил двухлетнюю церковно-приходскую школу, показав отличные результаты. Учил грамоте заштатный диакон Илья Меньшиков — выпускник учительской семинарии, прекрасно исполнявший церковное пение. Школа размещалась в отдельном здании, и в 1885 году в ней обучались 60 мальчиков и всего две девочки.
По негласным деревенским законам, с семи лет мальчики начинали помогать семье: гоняли коров на пастбище, охраняли скот, косили сено, ночевали в шалашах. Дети привыкали к труду, жизнь в деревне требовала постоянных усилий и терпения. Эти навыки в будущем оказались не в тягость, а в помощь.
В 1908 году Михаил Дроков прошел медицинский осмотр и вытянул жребий на военную службу — три года. Новобранца направили в Харбин (ныне принадлежит Китаю), в состав «самого русского города в Маньчжурии, после Порт-Артура», — в пограничные войска. Новые места, люди, короткая стрижка, гимнастерка, шаровары, винтовка, конь…
После курса молодого бойца Михаил был зачислен в формирующийся 2-й Заамурский конный пограничный полк. Служба в Отдельном корпусе пограничной стражи считалась престижной. Солдаты мечтали попасть сюда. Это была элита: грамотные, выносливые, физически крепкие, хорошее зрение и слух. Обучение длилось с ноября по март и включало стрельбу, конную и лыжную подготовку, следопытство, маскировку, рукопашный бой, служебное собаководство и выживание в экстремальных условиях.
Пограничники имели особую форму, современное вооружение, отдельные лазареты и даже три специализированных журнала. За поимку контрабандиста полагалась премия — до 75 процентов стоимости конфискованного товара. Полки охраняли Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД), боролись с хунхузами и диверсантами.
Михаилу служба нравилась. Он был отличным наездником, метким стрелком, рьяно относился к обязанностям. Участвовал в перестрелках, задержаниях контрабандистов. По собственному желанию остался на сверхсрочную службу — к огорчению родных и жены.
К 1911 году он дослужился до ефрейтора, затем — до старшего унтер-офицера (1913), а в 1914-м стал подпрапорщиком и командиром взвода. Его быстрый карьерный рост объяснялся не только храбростью и решительностью, но и высокой грамотностью — редкое качество для нижних чинов тех лет.
Каждые два года Михаил приезжал в Рогозиху на двухмесячный отпуск, щеголяя в необычной форме: мундир и околыш фуражки из темно-зеленого сукна, желтые погоны с полковыми знаками, блестящие кожаные сапоги. По воспоминаниям сестры Федоры, у него была жена — Анастасия, венчались они в церкви. Были ли дети — неизвестно, как и дальнейшая судьба Анастасии после революции.
Награды на гимнастерке
Михаил встретил Первую мировую войну в звании подпрапорщика. В начале 1915 года указом Николая II Заамурские пограничные полки были направлены на Юго-Западный фронт.
На рассвете 27 апреля 1915 года наступление русской армии началось с форсирования 1-м и 2-м Заамурскими пограничными полками и сводной кавалерийской дивизией реку Днестр у города Хмелев. Скрытность сосредоточения и выдвижения к месту переправы, быстрота и четкость действий позволили захватить противника врасплох. В образовавшийся в результате успешной атаки прорыв была брошена сводная кавалерийская дивизия с заамурскими конными полками. Сходу атаковав укрепления противника к северу от города Городейна, заамурцы преодолели проволочные заграждения, выбили из окопов подразделения и части 7-й австро-венгерской армии, отбросив их за реку Прут. Это был первый серьезный бой Михаила и его взвода.
Преследование противника длилось двое суток, причем пленных почти не брали; всадники были озлоблены поведением австрийцев, сперва подымавших руки и выкидывавших белые флаги, а затем в упор расстреливающих русских солдат. За этот бой генерал Брусилов приказал наградить всех участников конной атаки Георгиевскими крестами. Михаил Дроков получил Георгиевский крест IV степени. Командиры полков получили ордена Святого Георгия, а нижние чины — оранжевые басоны на шароварах, как знак особой доблести.
В мае 1916 года начался масштабный наступательный прорыв на Юго-Западном фронте — позже названный «Брусиловским прорывом». В боях участвовали и заамурские полки. Подпрапорщик Дроков был награжден Георгиевским крестом III степени за «личное мужество и храбрость при штыковой схватке, содействовавшие успеху атаки».
Вскоре Дрокову приказали занять опушку у деревни Суянка — передовой пост. Разведка сообщила о сосредоточении немецких сил. Михаил предвидел ожесточенный бой и запросил четыре пулемета (вместо двух по штату), боеприпасы, гранаты, воду для охлаждения стволов.
Он умело расставил пулеметы: два — на флангах, два — в центре, при этом фланговые были выдвинуты вперед и тщательно замаскированы. За короткое время были вырыты траншеи полного профиля.
Немцы атаковали несколько раз — до 300 человек. Бой длился весь день. Благодаря меткому огню и грамотному командованию противник понес тяжелые потери и не смог отбить позицию. За удержание передового поста против силы не менее роты Михаил Дроков был награжден Георгиевским крестом II степени.
7 июля 1916 года началась новая операция: 8-я армия должна была форсировать реку Стырь. Подготовка была слабой: проволочные заграждения не разрушены, артиллерия не подавила огневые точки. Взводу Дрокова поручили захватить переправу у деревни Мерва и выбить немцев из засеки у разрушенного моста, чтобы обеспечить переход всей роты.
Под сильным огнем солдаты, используя заранее заготовленные вязанки хвороста и плетни, пробирались через болотистую местность. Дроков лично повел группу из десяти бойцов по обломкам моста, закидывая плетни. Переправившись, они атаковали врага гранатами, штыками и винтовочным огнем, выбив его из засеки.
Переправа была обеспечена. Через Стырь, болотистую и труднопроходимую реку, перешли основные силы. За этот подвиг Михаил Дроков награжден Георгиевским крестом I степени. Он стал полным Георгиевским кавалером — одним из немногих, удостоенных всех четырех степеней высшей военной награды за храбрость.
Гражданская война и последний след
Летом 1917 года Михаил был направлен во 2-ю Омскую школу прапорщиков. Но из-за революции последний выпуск не состоялся. Курсанты были распущены. Полный Георгиевский кавалер — единственный среди юнкеров школы — был уволен в запас с чином прапорщика.
Михаил вернулся в Рогозиху. Хозяйство отца развилось, приросло землей и поголовьем. Герой вернулся как раз к уборке урожая. Его золотые погоны и награды поражали воображение односельчан. В церкви его приглашали к амвону вместе с родителями. За спиной шептали: «Мишка-то Дроков не просто офицер, а герой. Супостатов бил». Он полтора года трудился в поле, помогая отцу. Но страна была в огне. Солдаты с фронта приносили тревожные вести: Временное правительство свергнуто, Керенский бежал, власть захватили большевики.
В начале 1919 года Дрокова мобилизовали в армию адмирала Колчака. Он служил командиром роты в 51-м Сибирском стрелковом полку 2-й Степной дивизии. В июле 1919 года дивизия вошла в состав Западной группы, шли ожесточенные бои. 21 июля и 20 августа 1919 года Михаил был дважды ранен. В войсках белых начался разброд. В ходе Челябинской операции, после боев за деревни Ушанку и Озерную, большинство солдат 50-го и 51-го полков перешли к красным, убив своих офицеров. Михаил Дроков принял аналогичное решение — перейти на сторону красных.
Весной 1920 года он числился в Барнауле командиром взвода Алтайского губернского конного запаса. Дальнейшая судьба героя Первой мировой войны, полного кавалера Георгиевских крестов, остается неизвестной.